В Центре исламской цивилизации в Ташкенте проходит международный конгресс «Центральная Азия и Азербайджан: общее духовное и просветительское наследие — общее будущее». Сотни ученых из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсуждают важные гуманитарные вопросы, связанные с историей, культурой, искусством и, конечно же, религией. Между тем конгресс проходит на фоне визита в Ташкент глав республик Центральной Азии, что частично политизирует форум, в котором президенты также примут участие. «Фергана» поговорила с одним из участников конгресса, академиком Национальной академии наук Казахстана, заместителем директора Института истории государства Комитета науки Министерства науки и высшего образования республики, профессором Буркитбаем Аяганом.
— Каковы впечатления от Центра исламской цивилизации?
— Просто прекрасно, великолепная работа. Центр, безусловно, украсил Ташкент. Такие Центры должны появиться повсеместно. Понятно, что, допустим, Кыргызстан такие масштабы позволить не может, но Казахстан — вполне. Возможно, и у нас задумаются о создании подобных глобальных проектов. Отлично подобрана музейная коллекция. Гармонично смотрится Коран Османа в зале Коранов.
— Как вы с исторической точки зрения видите общность государств Центральной Азии и Азербайджана?
— Когда я ехал сюда как человек, который пишет историю, как автор учебников и по новому времени, и по Средневековью, я поймал себя на мысли, что, возможно, это первый раз в истории, когда лидеры этих государств именно как суверенных стран встречаются вместе, чтобы обсудить целый ряд вопросов. В дореволюционный, «российский» период об этом даже не могло идти речи. В советское время подобных встреч тоже не было: все шло через Москву, она контролировала процесс.
И даже за годы независимости — с 1991-го прошло уже 34 года — ни разу не было встреч в подобном формате. Государства были заняты множеством других проблем: пограничных, экономических и так далее. А сейчас настал момент, когда лидеры государств и, шире, народы стали уделять больше внимания духовной составляющей.
Почему именно Центральная Азия? Во-первых, народы этих республик связаны кровными узами — как тюркские народы, так и иранские, в частности таджики. Включение Азербайджана не было случайным: азербайджанцы тоже относятся к тюркским народам. Но, как мы знаем, Азербайджан географически не входит в Центральную Азию, это уже Кавказ. Непонятно, почему нет Турции — это ведь тоже тюркоязычная страна.
Темы, которые обсуждаются на конференции, действительно интересны и развиваются по нескольким направлениям: музееведение, библиотечное дело, научные контакты, в целом широкий гуманитарный комплекс вопросов.
Между тем, у стран накопился целый ряд проблем, и довольно серьезных. Например, были очень острые дискуссии по границам между республиками, мы наблюдали конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном. Есть недопонимание по ряду вопросов собственной истории у этих народов, потому что в советский период в большей степени изучалась история партии, а не история государств.
Поэтому встречи в таком высоком формате были крайне необходимы: они буквально напрашивались. Я вижу здесь очень серьезных ученых: директоров научно-исследовательских институтов, ведущих исследователей, авторов учебников. Плюс здесь собрались кинематографисты, они тоже представят свои работы, покажут фильмы.
В прошлом году уже был форум историков Центральной Азии. Институт истории государства выступал одним из организаторов, по поручению МИДа. Тогда круг был более узким: приезжали по три–четыре историка, два дня обсуждали, приняли меморандум — и разъехались. Косвенно участвовала и Россия, куда я отправил материалы.
Нынешняя встреча в Ташкенте охватывает гораздо более широкий круг вопросов и участников. И, насколько мне известно, конгресс посетят главы государств Центральной Азии — это придает форуму очень высокий статус.
— Кажется, страны сближает, во-первых, ислам, а во-вторых, общий постсоветский опыт. Например, в виде русского языка, который здесь по-прежнему широко распространен.
— Вы совершенно справедливо заметили, что здесь в основном собираются постсоветские республики. Но при этом нет, скажем, России, хотя в России есть множество тюркоязычных автономий — Башкортостан, Татарстан и другие. Мне кажется, фокус нынешней повестки скорее «центральноазиатский». У государств региона есть что обсуждать: водные ресурсы, экономические проблемы, инфляцию, торговые отношения, торговое давление со стороны Китая или России. Все это реально существует и будет постоянным фактором. Нам нужно отказаться от иллюзий, будто у государств не бывает проблем. Они есть у всех, вопрос в том, чтобы решать их вовремя и эффективно.
— Как можно оценивать такое сближение в контексте текущей ситуации в мире?
— Современный мир движется в двух направлениях. С одной стороны, усиливается роль великих держав. Начиная с XVIII века судьбы мира решали так называемые великие державы — Франция, Великобритания, затем Германия в XVIII–XIX веках, в XX веке к ним присоединились Соединенные Штаты Америки. Российская империя тоже заметно усилилась в XVIII веке. В XXI веке к числу великих держав по совокупности военного потенциала и промышленной мощи, безусловно, относится Китай.
Сегодня мы видим конфликты между крупными державами, что очень опасно. Это «растягивает» регионы, в том числе Центральную Азию.
С другой стороны, в этой турбулентной ситуации малые и средние государства тоже пытаются создавать свои механизмы, свои площадки, где можно обсуждать вопросы и вырабатывать совместные меры. В основном речь идет не о военных, а о гуманитарных и социально-экономических вопросах.
— Насколько, на ваш взгляд, ислам можно считать скрепой для стран-участниц?
— На форуме говорилось о том, что в мире нарастает исламофобия, подчеркивалось, что ислам — светлая религия, призывающая к миру и добру. Но эта тема не стала доминирующей. Скорее, идеи ислама звучали фоном, в первую очередь потому, что мероприятие проходит в здании Центра исламской цивилизации, в соответствующей символической среде.
Основной акцент все-таки делается на духовно-образовательном развитии, в том числе молодежи. В этом контексте ислам, безусловно, рассматривается как важная часть духовной идентичности региона, как один из элементов, способных служить скрепой и основой интеграции.
Ислам — одна из великих мировых религий, наряду с иудаизмом, буддизмом, христианством. У него огромная община верующих по всему миру, и игнорировать этот фактор невозможно. Его необходимо обсуждать. Исламофобия действительно существует, в советский период были жесткие запреты, да и сегодня некоторые авторитарные государства активно борются с религиями у себя внутри. Если эти проблемы не обсуждать, они могут выйти из-под контроля.
При этом внутри ислама есть радикальные течения. С ними нужно системно работать, потому что радикалы — граждане этих стран. Есть люди, которые попадают под «дурман» религии и становятся экстремистами. Это не шутка. Я говорил на форуме, что радикальный ислам Центральной Азии «не к лицу».
Но надо понимать: здесь собрались в основном представители творческой интеллигенции — ученые, музейщики, кинематографисты. Для них религия в первую очередь рассматривается косвенно — как один из ключей к интеграции, к объединению, к духовному развитию молодежи. Чтобы молодые люди развивались в «правильных» направлениях, ислам может и должен выступать одной из основ, но не единственной и не доминирующей повесткой.
— Вы говорили о великих державах. Евросоюз, несмотря на внутренние противоречия, в каком-то смысле тоже воспринимается как цельный субъект. Можно ли, с исторической точки зрения, рассчитывать на подобную интеграцию стран Центральной Азии — нечто вроде экономического союза по типу ЕС, с общей экономической платформой?
— Евросоюз — это не держава, а союз, прежде всего экономический. Если бы республики Центральной Азии существовали в относительной изоляции, можно было бы говорить о потенциально дееспособном интеграционном объединении.
Но самое уязвимое место Центральной Азии — это Китай. Экономический потенциал Китая очень сильно влияет и на страны региона, и на Россию. Китайские товары буквально растекаются по всему миру — их много и в США, и в Европе, и, конечно, в Центральной Азии.
Поэтому, когда мы говорим об экономических отношениях, правильнее говорить не о целостной, единой экономике Центральной Азии, а о конкретных, локальных аспектах: распределение водных ресурсов, энергоресурсов, в том числе нефтепродуктов, вопросы транспортных коридоров и так далее. Такие локальные вещи вполне могут обсуждаться и согласовываться. Но в более широком измерении я не думаю, что союз центральноазиатских республик будет полностью дееспособен на фоне Китая.
— Китай «рядом» просто не даст сформировать полноценный союз?
— Не потому, что Китай этого не захочет, а потому, что Китай слишком много производит и обладает колоссальной экономической мощью. Его товары, его капитал объективно доминируют.
— То есть, говорить о какой-то общей экономической платформе Центральной Азии, общей валюте вроде условного «алтына» — нереалистично?
— Абсолютно нереалистично.
— А идея Турции с «Тураном»?
— То же самое. Это во многом мифическая конструкция, условность. Она может существовать как нечто эфемерное — в виде культурно-психологических связей, символики, риторики.
— Наподобие «русского мира»?
— Это совершенно разные вещи, я бы не стал их напрямую сравнивать. И, что важно, страны Центральной Азии не собираются входить под «патронаж» Турции. Никто здесь не считает Турцию «старшим братом».
Есть влияние мировых держав — Европы, США, Китая — в тех технологиях и продуктах, которые ни Центральная Азия, ни Турция сами не производят. Правила игры часто диктуются именно ими. Китай, Малайзия, Тайвань — это очень крупные игроки. Например, в экономику Казахстана Евросоюз больше всего инвестирует через Нидерланды — небольшую, но очень активную страну.
Нужно быть реалистами. В ряде аспектов республики Центральной Азии могут и должны сотрудничать. Но глобальным игроком регион, на мой взгляд, стать не может. Здесь у меня сомнений нет.
— Но регион может претендовать на роль хаба, если не арбитра?
— Центральная Азия — безусловно интересный регион с серьезными ресурсами и населением свыше 60 миллионов человек. Но если посмотреть шире — рядом полуторамиллиардный Китай с одной из сильнейших экономик мира, который производит буквально все: от иголки до ракет. Его товары заполняют рынки Центральной Азии и остаются дешевыми.
Что бы ни происходило в промышленности стран региона, превзойти Китай в этом плане практически нереально. Китай все равно будет производить дешевле и быстрее. Поэтому в сугубо экономическом плане я настроен довольно пессимистично.
Реалистичным остается упор на экспорт ресурсов — нефти, газа. Здесь действительно есть перспективы. Кроме того, стоит развивать туризм.
— Человеческий ресурс? Разве форум не об этом?
— Конечно, человеческий капитал — важнейший фактор. Это касается и миграции, и образования, и культурного обмена. Но в глобальном плане, повторю, ключевые решения по-прежнему принимают великие державы. Они активно вмешиваются в дела региональных объединений — и речь не только о Евросоюзе или странах Южной Америки. Мы видим их вмешательство на Ближнем Востоке, в Африке — в регионах, которые географически очень удалены от этих держав.
Центральная Азия тоже находится в поле их внимания. У них есть ресурсы — финансовые, технологические, военные, — и они могут себе позволить такую активность.
— Сейчас много говорят о сохранении идентичности и наследия Центральной Азии. Не проще ли заниматься этим консолидировано, общими усилиями?
— В этих рассуждениях много романтики. В современном мире не существует полной изоляции, чтобы говорить о каком-то «закрытом» союзе. Так или иначе, небольшим странам все равно придется взаимодействовать с влиятельными игроками — хотя бы через интернет, социальные сети, через миграционные потоки.
Только узбекистанцев за пределами страны проживает несколько миллионов. Полностью избавиться от внешнего влияния невозможно. Тем не менее отношения между странами региона важно и нужно укреплять. Есть конкретные насущные проблемы, которые никто, кроме самих стран Центральной Азии, решать не будет: конфликты по водным ресурсам с тем же Афганистаном, спасение Аральского моря, трансграничная экология, культура, то же историческое наследие.
Франции или США эти вопросы не слишком интересны. Поэтому, как бы ни влияли внешние державы, ответственность за решение региональных проблем в любом случае лежит на самих государствах Центральной Азии.
ℹ️ Международный конгресс «Центральная Азия и Азербайджан: общее духовное и просветительское наследие – общее будущее» проходит с 13 по 15 ноября по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. ЦИЦ организовал мероприятие в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, Академией наук Узбекистана, Международным институтом Центральной Азии и Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU).
ℹ️ Центр исламской цивилизации (ЦИЦ) построен в столице Узбекистана рядом с комплексом Хаст-Имам. Здание выполнено в стиле средневековых архитектурных памятников, имеет четыре портала высотой по 34 метра и центральный купол в 65 метров. Здесь открыты зал Корана, конференц-зал на 460 мест и музей, экспозиции которого охватят всю историю Узбекистана — от доисламских времен до современности. ЦИЦ призван стать площадкой для изучения наследия предков и его актуального осмысления в сотрудничестве с Международной исламской академией Узбекистана, а также с научно-просветительскими центрами по всему миру.
-
 10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой
10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой -
 06 февраля06.02Стена у каждого свояПрименим ли опыт КНР для борьбы с пустынями в Центральной Азии
06 февраля06.02Стена у каждого свояПрименим ли опыт КНР для борьбы с пустынями в Центральной Азии -
 30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию
30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию -
 26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии
26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии -
 21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима
21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима -
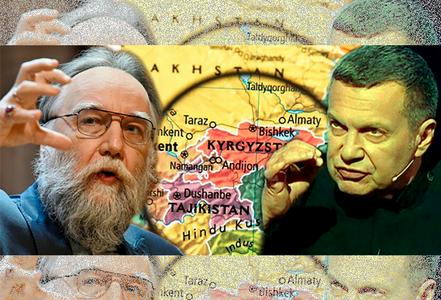 19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?
19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?





